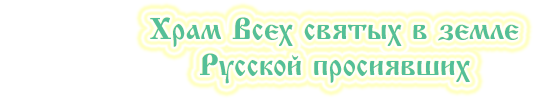
Вопрос: 22
О романе "Мастер и Маргарита" (см. вопр. 21) - как филолог, я считаю, что любое художественное произведение условно, и ни в коем случае не претендует на историческую или какую-либо иную достоверность и уж конечно не "создают новое Евангелие". Важно то, ЧТО хотел сказать автор своим произведением, а в том, КАК это сделать, ему предоставляется полная свобода. Условны и герои произведения, и события; интерпретировать образы можно по-разному.
Главное - ИДЕЯ, основная мысль романа.
Ответ:
Понятие художественной литературы обычно трактуется очень широко. Оно может заключать в себе самые разные явления литературного процесса, от чистой эстетики в стихах, до мифологии древнего языческого мира. Но если говорить именно о художественной прозе, и жанре романа, то основным его содержанием является уникальный способ описания мира, который заключается в том, что называют художественным обобщением действительности. Как Вы справедливо замечаете, это отнюдь не описание реальных фактов, ибо художественная проза является выдумкой автора. В этом смысле, действительно, можно сказать, что описание условно. Но условность эта не является ни ложью, ни произвольным выражением идей. Настоящая художественная литература обязательно имеет свойство достоверного изображения жизни. Феномен её в том, что достоверность эта возникает как бы изнутри. Описание внешних событий соответствует некоему глубокому внутреннему содержанию жизни, и когда описание истекает именно из него, то становится истинным, несмотря на то, что, казалось бы, является лишь фантазией автора. Но на самом деле оно не только основывается именно на глубокой внутренней истине, но даже имеет своим основным смыслом обнаружить эту истину, и сделать доступной читателю.
Реальная жизнь неизмеримо глубже любых идей. Поэтому и в настоящей художественной литературе именно художественное обобщение жизни стоит во главе угла. Идеи могут быть разные, а художественное произведение всегда остаётся само собой. По отношению к истинному смыслу литературного произведения (который отражает, как уже говорилось, глубокие основания человеческой жизни), идеи имеют лишь очень относительное значение. Скажем, у Льва Толстого было много своих идей, за некоторые из которых его даже отлучили от Церкви, а Ленин, например, видел в его произведениях зеркало русской революции. Но значение Толстого намного глубже и значимей всех этих идей.
Идеи, оторванные от жизни, не могут питать душу человека. Но они могут разжигать его страсти. Особенно наша страна много пострадала от идей. Они не только лежали в основании революции, и многих последующих бед, но и до сих пор не дают нормально жить. Вместо того, чтобы попытаться разумно строить свою жизнь, мы нередко продолжаем вариться в идеях – коммунистических, демократических, либеральных, и проч., Литераторы типа покойного Берлиоза, или критика Латунского, уже давно поняли, что именно идеи, а не литературный талант, в известных условиях приносят славу и деньги. Например, Некрасов в своё время отказался в своём «Современнике» от услуг таких писателей, как Толстой, Достоевский, Тургенев, Гончаров, и других, ради публикации идей Добролюбова и Чернышевского, - и не прогадал. Литература, имеющая дело лишь с идеями, именно художественного смысла может совсем не иметь. Это понимали многие писатели. Например, Хемингуэй называл тех, кто варится в литературных идеях, червями в банке, которые получают вдохновение от общения между собой и еще со стенками банки.
Какие бы глубокие мысли не возникали у писателя при создании романа, они могут только подчеркивать нечто большее, что, собственно, и составляет смысл настоящего художественного произведения. В своей полноте художественная истина оказывается недоступной для формулировки на идейном уровне. Можно ли свести к определенным идеям, например, Войну и Мир, Евгения Онегина, или, скажем, повесть «Старик и море» Хемингуэя, за которую он получил Нобелевскую премию? Мы видим глубокий смысл, который стоит за настоящими произведениями литературы, можем относительно их высказывать множество идей, но во главе угла, как уже говорилось, всегда стоит истина художественного обобщения.
Этой истиной в полной мере обладает и роман «Мастер и Маргарита», - но только тогда, когда Булгаков прикладывает свои идеи к реальной жизни послереволюционной России.. Если же говорить об описании евангельских событий, которое у Булгакова представляет собой как бы роман в романе, то картина получится уже не такой однозначной. Этот роман тоже претендует на некую художественную правду. Булгаков излагает евангельские события, так, как они могли бы происходить, по мнению автора, в реальной жизни. Это повествование, действительно, могло бы с высокой степенью художественной правды описать события в древней Палестине, - если бы оно только не касалось Христа и настоящего Евангелия. Тогда автор мог бы выражать любые идеи, а мы могли бы их принимать, или не принимать, в любом случае отдавая должное художественному уровню произведения.
Однако роман о Понтии Пилате имеет своим предметом описание именно евангельских событий. Но тут писатель входит в область, не поддающуюся описанию в художественном произведении. То, что описывает Евангелие, является великим и непостижимым чудом, которое лежит в основании христианской веры. Как небо от земли, отстоят евангельские события от того, что обычно происходило и происходит в мире. Поэтому попытка описать их на уровне художественной прозы, и истолковать своими идеями, может говорить лишь о чудовищном непонимании христианской веры.
Речь здесь идет не о неверии в Бога, над которым смеётся сам Булгаков, а об отсутствии реального понимания Евангелия. Как я уже написал в первом ответе, на мой взгляд, именно это непонимание является настоящей трагедией не только самого Булгакова, но и всего русского общества того времени. Поэтому и идеи, отраженные в романе, имеют столь чудовищно ложный характер. Над подобным религиозным невежеством смеётся и Воланд со своей свитой, и сам Булгаков, - но одновременно он смеётся и над самим собой. Ибо образ Христа, о котором он пишет в своём романе, еще более далёк от истины, чем «отрицательный» Христос поэта Бездомного, а «умная» мысль Берлиоза, что Христа не существовало вообще, ничем не глупее мыслей о том, что вместо Христа существовал описанный в романе Иешуа.
Надо сказать, что образы романа о Понтии Пилате остаются лишь персонажами романа, написанного Мастером. Ни один из героев романа, живущих в послереволюционной Москве, не сталкивается с ними в своей жизни. Автор совсем не стремится ввести их в ткань основного романа подобно Воланду и его свите. Это тоже является косвенным свидетельством о том, что к реальной жизни они отношения не имеют. Образы же Воланда и его свиты с полной художественной достоверностью органично вписываются в картину послереволюционной Москвы. По существу эти образы – те же самые москвичи, или, если хотите, их страсти, которые морочат голову тем, кто им подвержен, и издеваются над ними. Именно эти образы наиболее ярко, в гротескной форме, подчеркивают абсурдность послереволюционной атеистической идеологии. Воланд во многом отражает мысли и, может быть, даже образ самого автора, который вместе с ним рассматривает мятущееся население города. Когда Воланд говорит о москвичах: «…обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их», - это, по существу, авторская речь самого Булгакова.
Очевидно, что сам Булгаков, сын профессора Духовной Академии, всё-таки чувствовал, что придумать своё Евангелие, и вписать его в жизнь как идеал добра, было бы слишком грубой и невежественной затеей. Две тысячи лет настоящее Евангелие открывало путь к Богу для бесчисленного множества людей. Оно легло в основание целой христианской цивилизации, создавшей удивительную культуру, частью которой является и сам роман Булгакова. Мысль просто его отбросить, и написать что-то от себя, могла бы прийти в голову только посетителям «Грибоедова». Роман же Булгакова подобные идеи как раз откровенно высмеивает.
Уклоняется Булгаков и от всякого упоминания о Церкви. Хотя если бы принять идеи повествования о Понтии Пилате серьёзно, то в романе неизбежно должны были бы появиться и образы священников, поставленные в столь же смешное положение, что и советские служащие, – ибо они две тысячи лет верили и проповедовали какую-то глупость. Но Булгаков уклоняется от подобных описаний. Он как бы полностью отдаёт послереволюционную Москву Воланду и его свите. Может быть, в этом есть и зерно истины – ибо революция означала почти полное отпадение народа от веры. Но я думаю, что писатель просто не мог вписать свои идеи из романа о Понтии Пилате в реальную жизнь. По-видимому, от упоминания о настоящем Христе и Его Церкви его уберегло также и нежелание оскорбить верующих людей, и даже, может быть, некоторый страх Божий, - т. е., осознанное, или нет, желание уклониться от оскорбления настоящего Христа и Его Церкви. Но как бы то ни было, а реальной веры и Церкви в своём романе писатель не касается. В конце своего произведения он, правда, упоминает о Свете - однако лишь в том смысле, что даже самые любимые герои его не заслужили.
Нельзя не согласиться с тем, что идеи автора любого произведения, конечно, представляют собой большой интерес для читателя. Если говорить, например, о философии, или о публицистике, то в такого рода литературе они, безусловно, занимают даже главное место. Однако художественная литература имеет более глубокое содержание, чем любые идеи автора. Поэтому, воздавая должное высочайшему литературному уровню романа Булгакова, и сочувствуя многим его мыслям, большая часть которых сохранила свою актуальность и сегодня, - все-таки приходится оговариваться, что идеи, связанные с описанием евангельских событий, на мой взгляд, вводят в роман нечто искусственное, свидетельствующее лишь об ограниченности человеческого представления о Боге и вечности. Преодолевается же эта ограниченность только через настоящее Евангелие, и настоящую веру в Христа.